Aнатолий Aлексин: «Главным моим героем всегда была семья»
3 августа отметил свое восьмидесятилетие Анатолий Алексин, классик отечественной литературы, лауреат Почетного диплома IBBY, «властитель дум» нескольких поколений. Кажется, нет в нашей стране человека, чье взросление обошлось бы без психологической прозы Алексина, кто не задумывался бы под влиянием его книг о своих взаимоотношениях с окружающим миром. Алексин говорит о вечном, общечеловеческом. Не случайно его произведения переведены на 47 языков и изданы во многих странах. Редакция «Книжного обозрения» поздравляет Анатолия Георгиевича с юбилеем и желает ему здоровья, счастья и новых книг.
Интервью
– Анатолий Георгиевич, все писатели вырастают из читателей. Что вы читали в детстве? Были ли в вашем детстве книги, которые как-то повлияли на вашу судьбу?
– В свою детскую пору я был сыном «врага народа». Маму, естественно, с работы уволили – и у нее не было возможности покупать мне книги. К стихам Пушкина и Лермонтова она успела приобщить меня еще раньше, да и потом читала их мне наизусть. Нашу домашнюю библиотеку реквизировали. Но на помощь пришла библиотека, находившаяся на соседней улице. Она широко распахнула передо мной мир литературы. И прежде всего – классики.
Любимыми творениями, в которых главными героями были и юные люди, стали для меня романы Чарлза Диккенса и Марка Твена.
Библиотекарь Валентина Петровна, которую мы все звали тетей Валей, и учительница литературы Мария Федоровна – мои незабвенные взрослые друзья. Потому, когда меня спрашивают, какие профессии я более всего почитаю, отвечаю, не задумываясь: «Профессии врача, учителя и библиотекаря».
– Кто был вашим учителем в литературе?
– Моим первым «творческим редактором» стал выдающийся прозаик Константин Паустовский. В рукопись повести, которой я, так сказать, дебютировал, он внес авторучкой обильную правку, но я принял только одну фразу. Хотя, думаю, все его фразы были хороши... «Вы меня очень обрадовали! – неожиданно воскликнул Константин Георгиевич. – Автор, даже начинающий, должен отстаивать свой стиль. В ином случае у него, стало быть, нет своего голоса, – тогда и надеяться не на что. Даже и принимая пожелания редактора, автор должен осуществлять их своим пером.»
– Что бы вы сказали о литературе для юных читателей советских времен? Разумеется, имея в виду авторов и книги, кои определяли ее лицо...
– Сошлюсь на легендарную Астрид Линдгрен... Вручал ей в Стокгольме «Премию имени четырех девочек» за ее служение детству и миру. Четыре девочки – четыре жертвы далеко не мирных ситуаций: Таня Савичева – жертва ленинградской блокады, Анна Франк – фашистских погромщиков, Садако – ядерного взрыва в Хиросиме, Саманта Смит – авиационной катастрофы. Так вот, Астрид Линдгрен сказала мне – в присутствии многих поклонников словесности, – что русская литература для юных читателей – самая прекрасная в мире. В подтверждение ее слов я мог бы назвать очень многие имена, способные составить гордость не только литературы для юных, но и всей русской словесности. Ну, а уровень литературы, по словам великого критика, определяется только ее вершинами... Не называю фамилий, потому что вершин немало, и боюсь, не назвав, кого-то ненароком обидеть.
– Вы всегда были писателем известным, востребованным. Приходилось ли вам при этом «наступать на горло собственной песне»?
– Главным героем моих повестей и рассказов, кои благостными, полагаю, не назовешь, неизменно была семья, поскольку человечество состоит из семей. А уж через семью пролегают все проблемы – нравственные, социальные, экономические. И политические... Но так как они, повторюсь, возникают у меня в кругу семьи, цензоры были менее бдительны. Хотя возникли трудности со спектаклем «Мой брат играет на кларнете...». Повесть и пьеса резко протестовали против бесцеремонного, диктаторского вторжения в чужую жизнь, даже сестры в жизнь брата, а брата – в судьбу сестры. Но как раз в том, 1968 году, когда родился спектакль, советские танки вторглись в Чехословакию. Тогдашние советские газеты утверждали, что старший брат, то есть Советский Союз, имеет полное право вмешаться в жизнь младшей сестры, то есть Чехословакии. Премьера была отменена. Нелепость, конечно... Однако если бы не помощь виднейших деятелей культуры (Наталии Сац, например), цензура бы не сдалась. Кстати, спектакль (прежде всего благодаря поразительной игре выдающейся актрисы Лии Ахеджаковой!) завоевал первые места, по-моему, на всех театральных фестивалях того и последующего годов.
К изданию книг в «капиталистических странах» в те времена относились, мягко говоря, с подозрением. И то, что мои повести были переведены на десятки языков (скажем, в семидесятые годы девять повестей в США, двухтомник в Греции, пять томов в Японии и так далее), у идеологических властей отнюдь не вызывало восторга. Тем более, что ни одной строки, воспевающей коммунистический режим, в тех повестях не было, а поведано было главным образом о разных печальных историях...
– Вы упомянули о романах Чарлза Диккенса, юные герои которых оказываются в сложных, даже тяжких жизненных ситуациях. Вы считаете, что в книгах, адресованных юным читателям, правомерны сюжеты драматичные и даже трагичные?
– Лев Толстой, назвав свою трилогию «Детство», «Отрочество», «Юность», словно бы подчеркнул, что это совершенно разные периоды ранней поры человеческой жизни. А в одном из писем он утверждал, что человек семи лет отличается от человека тринадцати или четырнадцати лет больше, чем отличается от взрослого.
Когда-то я писал повести для детей. Не буду скрывать, что некоторые из них и ныне издаются и переиздаются. Я не имею права оценивать свои произведения – это прежде всего право читателей. Но я вправе сказать, что главным для себя, для своего творчества считаю те двадцать коротких повестей, которые начали свой путь в журнале «Юность» с его многомиллионными тиражами. Те повести адресованы вовсе не детям, а в первую очередь юношеству. Да и взрослые люди тоже были активными поклонниками журнала: ночами стояли в очередях, чтобы поутру на него подписаться.
На страницы «Юности» меня пригласил в 1955 году его создатель Валентин Катаев. А во взыскательнейшую редколлегию тогда входили Самуил Маршак, Ираклий Андроников, Виктор Розов, Николай Носов...
Если писатель, обращаясь к подросткам и юношеству, размышляет о хитроумности и коварстве зла, но против него не восстает, ничего ему не противопоставляет, это грешно. Но если он бескомпромиссно восстает против зла и непреклонно противопоставляет ему действенное добро, он, таким образом, в меру сил следует высоким литературным традициям. Вспоминаю «Подростка» Ф. М. Достоевского, трагические чеховские рассказы «Спать хочется» и о Ваньке Жукове, того же Диккенса, а если обратиться к недавней поре, то «Двух капитанов» В. Каверина. «Дикую собаку Динго или Повесть о первой любви» Р. Фраермана, «Великое противостояние» Л. Кассиля, повести Н. Дубова, которые Александр Твардовский публиковал в «Новом мире». И, наконец, потрясший меня «Белый пароход» Чингиза Айтматова...
Подчеркну: я не провожу каких-либо аналогий со своими произведениями, а говорю о традициях, которым хочется следовать,
Безусловно, юношеству доступны и все сокровища «взрослой» литературы. Но тем не менее у этого возраста очень много своих совершенно индивидуальных проблем, устремлений, надежд... Писатель обязан помочь человеку, находящемуся на пороге взрослости, зорко отличать милосердие от жестокости, благородство от коварства, честность от лицемерия. Иначе молодой человек войдет в сложный мир взрослости беззащитным...
А у детской литературы, как я понимаю, несколько иные «законы». Или, точнее, иные особенности, так как законы и правила в литературе вообще вряд ли могут существовать. Да, другие особенности, поскольку они учитывают возрастные особенности читателя. Детская литература своими, особыми художественными средствами провозглашает, защищает благородные идеалы.
– Что же для вас самое главное в книге, адресованной юным?
– То, что вообще главное в литературе и искусстве (фактически об этом уже сказал!): утверждать добро и обличать зло.
– Что вы написали, находясь вдали от России?
Сперва, как говорится, «история вопроса». 16 апреля 1993 года я выступил в Бетховенском зале Большого театра на встрече первого Президента России Б. Н. Ельцина с интеллигенцией и сказал об опасности фашизма и антисемитизма, имея в виду общество «Память» и ему подобные злокачественные «формирования». Президент и все присутствующие в зале меня поддержали. Выступление мое было показано по телевидению и опубликовано в «Литературной газете». Но с той поры каждую ночь нам с женой Татьяной стали звонить и разными голосами угрожать «вздернуть на фонаре»... Тогда я написал роман «Сага о Певзнерах», который в прессе уже назван «антишовинистическим» и «антифашистским». Узнав об этом романе, тогдашний премьер-министр Израиля Ицхак Рабин пригласил нас с женой в свою страну. Мы получили двойное гражданство. Оно не только официально двойное: душа моя ни на день не расстается с Москвой, с Россией. Хотя мы сердечно благодарны и Израилю – особенно врачам-целителям, которые уже много лет продлевают нам жизнь, борясь с тяжелыми и, увы, неизлечимыми болезнями.
Не расстаюсь с Москвой и потому, что за шесть с половиной лет в российской столице издано более тридцати моих книг, в том числе и дважды роман «Сага о Певзнерах» без малейших сокращений и коррективов.
В вышедшие в московских издательствах собрания моих сочинений (пятитомное и девятитомное) включены все новеллы и повести, написанные в Израиле.
Быть может, нам с женой особенно дорога только что выпущенная издательством «ОЛМА-ПРЕСС» книга «Террор на пороге». В нее вошли цикл моих антитеррористических рассказов и воспоминания Татьяны Алексиной «Строки прощаний... Семьи и судьбы». Издательство так представляет книгу: «Это животрепещущий отклик на исчадие ада современной действительности – терроризм – и одно из его проявлений в России в период сталинских репрессий».
Татьяна тоже была дочерью «врага народа». Отец ее, талантливый инженер-строитель, приехал в Советский союз из Германии в 1926 году «строить социализм» и «достроил» его в Магадане, где был расстрелян в возрасте 33 лет. Татьяна воссоздала горестную историю своей еврейской семьи со стороны отца и немыслимые страдания и потери семьи старинного дворянского рода по линии матери.
Памяти Таниного отца я посвятил и свою повесть «Ночной обыск» (при первой публикации в журнале «Октябрь» она вышла под названием «Игрушка»). Незабвенный Лев Разгон, сам томившийся в застенках и лагерях восемнадцать лет, отмечал, что в той повести (а теперь вот и в Таниных воспоминаниях) кошмар сталинского террора впервые был увиден глазами ребенка.
Книги, изданные в эти месяцы в России, я воспринимаю, как драгоценный подарок к моему 80-летию. И благодарю Москву! Ну, а еще... Подарками стали включение в Международный биографический словарь «Кто есть кто» и избрание почетным членом Союза писателей Америки и Канады. Однако самое бесценное – это, конечно, книги!
Беседовала Ксения Молдавская
Источник: http://www.knigoboz.ru/news/news1976.html
@темы: Интервью




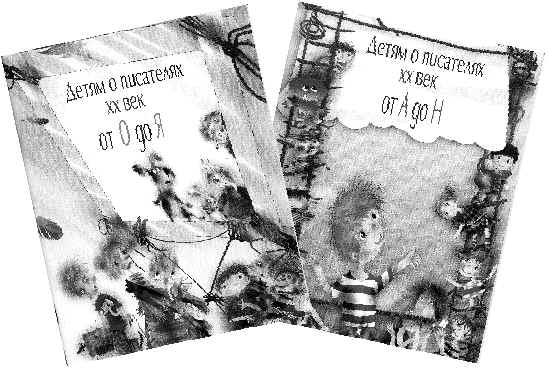
 , а затем неизвестный автор сводит повествование к постоянному хождению старика к морю и обратно (по схеме "сходил-попросил-получил-вернулся"
, а затем неизвестный автор сводит повествование к постоянному хождению старика к морю и обратно (по схеме "сходил-попросил-получил-вернулся"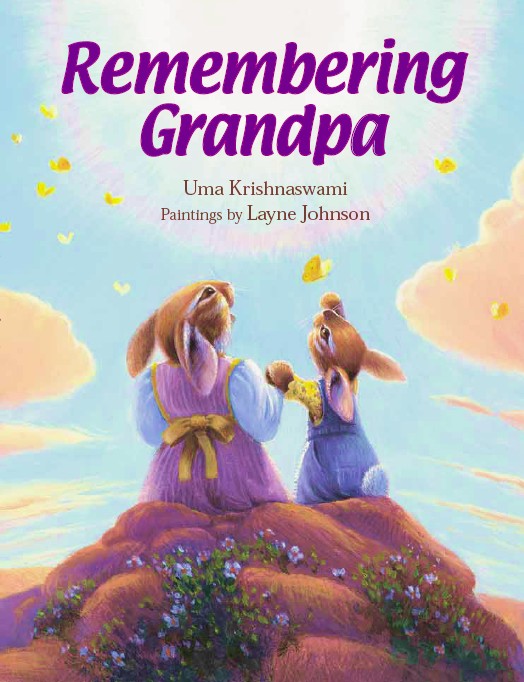

 Неплохо было бы знать, чем отличается фронтиспис от заставки, и какие виды иллюстраций существуют вообще.
Неплохо было бы знать, чем отличается фронтиспис от заставки, и какие виды иллюстраций существуют вообще.






























